  |
|
Тематические разделы Оркестры, ансамбли, музыкальные театры
|
|
Тематические разделы
Музыка в Израиле
Классическая музыка
Современная музыка
Исполнительское искусство
Музыкальная педагогика
Литературные приложенияОркестры, ансамбли, музыкальные театры
О ЕВРЕЙСКИХ КОРНЯХ МУЗЫКИ СОВРЕМЕННОГО ИЗРАИЛЬСКОГО КОМПОЗИТОРА: «ОКТЯБРЬСКОЕ СОЛНЦЕ» МАРКА КОПЫТМАНА
Юлия Крейнина
Еврей тот, кто связывает свою судьбу с судьбой еврейского народа
Эли Визель
Вопрос о связи еврейских композиторов современного Израиля со своим еврейским наследием обсуждается уже много десятилетий. Значительно дольше, на протяжении столетий, не находит однозначного ответа вопрос «Что такое еврейская музыка?». Оба эти вопроса неразрывно связаны друг с другом и остаются актуальными как для тех, кто живет в музыкальном мире еврейской религиозной традиции, так и для тех, кто создает и слушает новую музыку современного Израиля. Эти два пространства культуры сосуществуют в одновременности и нередко даже противостоят друг другу.
Различия между этими двумя мирами – миром современного Израиля и миром тысячелетней еврейской традиции – постоянно открытая для обсуждения тема; спор между оппонентами – приверженцами разных позиций в этом вопросе – сегодня видится как далекий от окончания. Здесь я касаюсь данной проблематики лишь в той мере, насколько это необходимо для читателя, далекого от нее в культурном плане – чтобы такой читатель мог иметь в виду основные вехи в процессе этого спора.
Как известно, отцы-основатели государства Израиль, вновь появившегося на карте мира в 1948 году, стремились «быть как все народы» – то есть создать для еврейского народа государство современное и светское – нерелигиозное по своей идеологии. В идеологии тогдашнего сионизма (т.е. возвращения еврейского народа в Сион, на историческую родину) господствовало отрицание опыта еврея, жившего почти две тысячи лет в диаспоре – еврея религиозного с одной стороны и подчиненного светской власти тех народов, на территории которых он жил, с другой. В этом смысле израильтянин ХХ века – гражданин новой, только что возникшей страны – мыслился как иной, новый человек, желающий быть гражданином независимого государства и жить иначе, чем прошлые поколения евреев в диаспоре (галуте).
С другой стороны, связь с двухтысячелетней еврейской традицией периода диаспоры не могла быть прервана – хотя бы потому, что основной корпус текстов еврейского наследия – это тексты Танаха[1]. Для светского еврея они – важнейший национальный историко-литературный памятник, для религиозного еврея – учение, пришедшее от самого Всевышнего на горе Синай, но так или иначе, вне этих текстов духовная самоидентификация еврея невозможна.
Следует учитывать и еще одно важное обстоятельство. Позитивной стороной идеологии сионизма, как показали исследования современных историков, было обращение к древним корням – т.е. к древней истории еврейского народа периода его независимости.[2] Таким образом, в антигалутной идеологии сионизма присутствовала идея исторической памяти, возвращения к более древней традиции периода независимости. Как часто приходится наблюдать в истории идей, новое, по меткому выражению Стравинского – это хорошо забытое старое. Добавлю – забытое старое, как оно видится сегодня – с учетом различия позиций как отдельных людей, так и различных идеологических течений.
Как бы то ни было, современный еврей-израильтянин либо родился в Израиле, либо вернулся – иммигрировал – на землю своих предков[3]. В любом случае, он должен осознать и определить свою позицию в нынешнем культурном контексте Израиля, который сам по себе весьма многозначен. Как показывают социологические исследования последних лет, национальная самоидентификация современного еврея, живущего в Израиле, складывается из двух основных составляющих: его ощущения Израиля как своей родины (израильская самоидентификация) и его связи с историей и традицией народа (еврейская самоидентификация). Разные группы населения Израиля в социологических опросах выдвигают как основную либо лишь одну из этих составляющих – либо обе, в различных пропорциях. Пропорция варьируется в зависимости от светского или религиозного образа жизни, возраста, образования, культурных предпочтений и т.д.
Вполне очевидно, что процесс формирования нации в Израиле и сегодня еще далеко не завершен, и каждое поколение вновь прибывших в страну решает вопрос самоидентификации заново и стремится найти себя – не только в житейском, но и в духовном плане.
Процесс поиска протекает по-разному – особенно у людей искусства, предельно чутко ощущающих различные духовные потоки в окружающей действительности и в то же время наделенных сугубо индивидуальным опытом – в том числе и обретенным до приезда в Израиль. Так, один из наиболее известных израильских композиторов наших дней, Марк Копытман (р. 1929) иммигрировал в Израиль из СССР в 1972 году, будучи к тому времени известным и уважаемым в Советском Союзе композитором и педагогом. Его знакомство с еврейской и израильской культурой до 1972 года было минимальным – и тем выше следует оценить его жажду знаний о новой стране и ее культуре. Помимо изучения языка и знакомства с людьми, искусством и особенно музыкой Израиля, воображение композитора постоянно работало в поисках важнейшего, судьбоносного смысла каждого пережитого им события. Современная израильская культура и древний пласт еврейской культуры, неотрывный от языка иврит (в его древнем слое, который не совпадает с современным ивритом) – входят, то внезапно, то постепенно, во внутренний мир композитора и становятся его неотрывной частью.
Чтобы представить себе тот Израиль, в который приехал Копытман в 1970-е годы, стоит напомнить об исторических событиях того периода. Как и многие иммигранты, Копытман пережил войну вскоре после прибытия в Израиль. Это была трагическая для страны война Судного дня (1973), когда Египет и Сирия начали военную атаку в день наиболее важного для евреев ежегодного праздника. Согласно еврейской традиции, Всевышний выносит в Судный день приговор каждому еврею и решает, что ждет его в наступающем году. В этот день в Израиле никто не работает, а религиозные люди соблюдают пост более суток. Никто не ожидал звуков сирены в день праздника – однако услышав его, мужчины в ту же минуту выбежали из синагог, торопясь скорее добраться до своих воинских подразделений. Вероломное нападение врага привело к большим потерям в этой войне; возникшее в стране коллективное чувство вины перед погибшими не умерила даже победа.
Этот краткий исторический экскурс может быть символом жизни в Израиле вплоть до сегодняшнего дня.[4] В подобной ситуации неудивительно то, что кантата «Октябрьское солнце» (для голоса, флейты, скрипки, виолончели, фортепиано и ударных) стала одним из первых сочинений Копытмана после иммиграции. Перед слушателем разворачивается, по сути дела, свидетельство очевидца событий, музыкальный документ истории – видимо, именно поэтому «Октябрьское солнце» было включено в школьные программы и много раз исполнялось по радио в годовщину событий войны Судного дня.
Это сочинение стало первым в ряду опусов, написанных Копытманом на стихи выдающегося израильского поэта Иегуды Амихая (1924-2000)[5]. Как и в других своих вокальных сочинениях, композитор становится отчасти соавтором поэта. Работая над «Октябрьским солнцем», Копытман не писал музыку на конкретный поэтический фрагмент Амихая – он сам скомпоновал текст кантаты из отдельных строк поэта и таким путем создал некую афористическую мини-поэму.
Текст этой мини-поэмы одновременно сдержан по тону – и полон безысходного отчаяния. Если мы попробуем выделить в нем основные смысловые блоки, мы сразу же заметим два параллельных плана. Первый доносит до нас оголенные, как колючая проволока, кричащие парадоксы.Октябрьское солнце согревает наши лица.
Октябрьское солнце согревает наших мертвых.
Печаль – это тяжелая деревянная доска.
Слезы – это гвозди.
Земля вращается вокруг солнца. Да.
Земля плоская, как потерянная, плывущая доска. Да.
На небесах есть Бог. Да.
Мне нечего сказать о войне.
Я замкнулся в себе.
Парадокс первый, созданный не поэтом, а композитором – созданный путем соединения строк из разных трехстиший в самом начале: солнце, согревающее лица живых, согревает и мертвых – но, протестует здравый смысл, их согреть уже не дано! И сказанное звучит как горькая констатация: увы, самое страшное свершилось, но вдруг – шепчет безумная надежда – вдруг они оживут под солнцем?
Парадокс второй: поэт провозглашает некие общеизвестные истины, и словно кивает в подтверждение: Да.[6] Однако ряд этих истин довольно причудлив – сначала факт, доказанный наукой (Да.), затем некое высказывание из области субъективных ощущений, но одновременно противоречащее сегодняшней науке – земля плоская. Тем самым, задним числом ставится под сомнение и предыдущее высказывание: сама однотипность фраз, создавая инерцию восприятия, делает оба высказывания одинаково верными (или одинаково ложными?) – но как бы то ни было, ставит их в равное положение. Однако – и это самое главное – в третьей строке появляется мысль о существовании на небе Бога! Рядом с предыдущими, то ли верными, то ли неверными высказываниями и это, третье тоже кажется неоднозначным по смыслу – то ли это верно, то ли спорно, то ли это некий крик души, экзистенциальная тоска по высшей силе?
Парадокс третий: поэт говорит о том, что ему нечего сказать – после всего уже высказанного. Видимо, речь о том, что остались невысказанными чувства – они застыли, словно превратились, как сказано Амихаем чуть раньше, в дерево или гвозди; чувства заперты, закрыты наглухо снаружи самим говорящим (I’ve shut myself in). Возникает ощущение, что герой – alter ego автора – испытывает нечто вроде болезненного бесчувствия, наступающего иногда после эмоционального шока – человек не может поверить горькой правде и застывает, как статуя.
За этими краткими, почти афористическими строками скрывается второй план – некое послание слушателю. Оно неоднозначно, многослойно и потому может быть расшифровано каждым сугубо индивидуально, как подсказывает воображение и способность к эмпатии.
Прежде всего, Амихай, сам прошедший и переживший несколько войн, воплощает в своих стихах принятые у израильтян неписаные обычаи и правила, определяющие приемлемое и неприемлемое поведение в трагические минуты. Эмоциональные переживания у израильтян остры, и стыдиться их не принято – слезы о погибших проливают публично все, в том числе и мужчины. Но это слезы лишь на миг – их сменяет стоическая сдержанность, мгновенный безмолвный приказ себе самому – продолжай жить! По крайней мере, таков категорически императив – если вспомнить знаменитую формулировку Иммануила Канта – израильской самоидентификации.
Однако – и это новый ракурс возможной трактовки – как можно принять такую действительность, где постоянно гибнут родные, друзья, сограждане? Как жить в мире, где слезы – гвозди, которые забивают в доску печали? Амихай – как это типично для него – отказывается от рифм и говорит почти прозой; Копытман же сталкивает строчки, у поэта разъединенные, чтобы добиться предельной, кричащей противоречивости между соседними строками. Вопрос, на который нет ответа – может ли мир стоять на абстрактных истинах? Кто придаст им эмоциональное наполнение? Лирический герой спасается от душевного надрыва, закрыв душу наглухо – но мы понимаем, что это лишь иллюзия.
Музыка в этом случае заполняет «воздухом» паузы между строками, позволяет вздохнуть и пережить сказанное. И помогает – и это еще один дополнительный ракурс – дать выход чувствам, которые могли бы вызвать удушье, так они невыносимы в своей остроте и горечи. Музыка – самым своим присутствием, своим комментарием к переживаниям – спасает от безысходного отчаяния.
Предельно лаконичное сочинение Копытмана (8’30’’) не отпускает внимание ни на секунду от начала до конца. Интенсивность эмоционального развития в кантате вызывает ассоциации с предельно сжатой пружиной, которой не дает распрямиться внешняя сила – своего рода «обет молчания», взятый на себя автором текста. Напряжение не снимается – оно остается внутри, оставляя в душе неизбывную боль, неутолимую печаль и невысказанное в словах страдание.
По своей структуре «Октябрьское солнце» подобно замкнутому кругу – в интродукции и в коде выделяется из контекста одна и та же интонация, устой-кварта ля-ре – возникает обрамляющая сочинение арка.
Пример 1[7]
В обоих случаях эта кварта появляется без текста и потому лишена очевидных программных ассоциаций – она лишь дает на мгновение покой, передышку в несчастье. Однако один из центральных эпизодов проясняет смысл и символические наполнение этой минутной устойчивости.
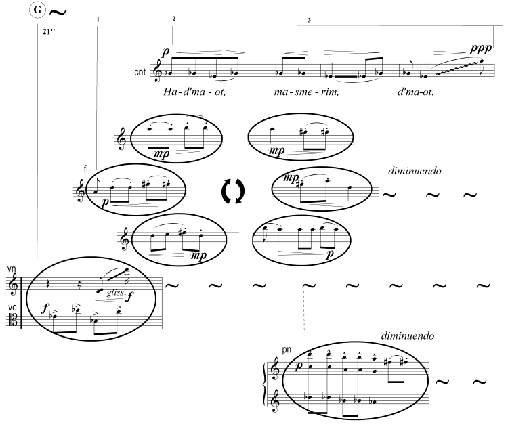
Пример 2
У духовых и фортепиано, в идиллически ясном ре-мажоре, звучат осколки детской израильской песенки о празднике Ту-би-Шват – весеннем празднике, когда в Израиле сажают деревья и цветы. Одновременно, в жестком столкновении с прелестной наивной песенкой, звучат слова: «Слёзы – это гвозди» (продолжение предыдущей метафорической строки – «Печаль – это тяжелая деревянная доска»). Звуки трезвучия ми-бемоль – соль-бемоль – си-бемоль, разбросанные в партиях виолончели, скрипки и голоса, диссонируют с ре-мажором флейты и мелодии фортепиано (характерно, что остальные голоса фортепианной партии дублируют мелодию в верхнюю и нижнюю секунду, создавая жесткие кластеры – мелодия словно искажена кривым зеркалом). Звуковая краска ре-мажора (и кварты ля-ре, как части его) подобна мимолетной улыбке, дарящей миг радости. Быть может, так воплощается неизбывная людская надежда, что в мироздании есть внутренний смысл и порядок.
Еще один голос внеличных сил – мастерски воспроизведенный композитором звук традиционного еврейского инструмента – шофара. Копытман воссоздал его тембр гетерофонным наложением вариантов сходного двузвучного мотива у флейты, скрипки и виолончели.
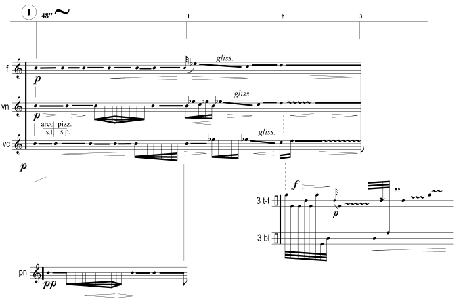
Пример 3
По традиции, шофар звучит в синагоге осенью, в дни празднования Рош-а-Шана (еврейского Нового года) – то есть за полторы недели до Йом-Киппур (Судного Дня), а также в завершение Йом-Киппура. Согласно воззрениям еврейских религиозных авторитетов, заповедь трубить в шофар в дни осенних праздников имеет множество различных значений. В контексте кантаты представляется важнейшим из них идея единства еврейского народа – народа, в трепете ожидающего суда Всевышнего в Йом-Киппур. Символично, что в кантате «шофар» звучит сразу же после слов «Есть Всевышний на небесах»; избранный автором хроматический мотив (уменьшенная кварта) и гетерофонное наложение нескольких подвижных рисунков в фактуре передают внутренний трепет и горечь лирического героя – ведь суд, увы, уже свершился, и октябрьское солнце согревает лица погибших.
Звук «шофара», подобный голосу самой судьбы, приурочен примерно к точке золотого сечения кантаты – здесь достигает апогея отчаяние; троекратное чередование негромких реплик «шофара» с репликами ударных (вначале кричащих и постепенно угасающих до PPP) переходит в монолог голоса без слов. Катарсис невозможен – но наступает смирение перед тем, что свершилось. Перемена тона повествования заметна мгновенно: в монологе певицы первым появляется звук ре – своего рода центральный тон кантаты. Он, по сути дела, не исчезает уже до конца сочинения; кроме того, в соло певицы трижды распевается интервал кварты – своего рода «выпрямленная» уменьшенная кварта «шофара». Однако смирение сметается последним криком отчаяния (кластеры вокруг центра ре) и хаосом многозвучия. Заключительная реплика флейты, едва слышная кварта ре-ля, воспринимается как робкий голос надежды…
Особое место «Октябрьского солнца» в вокальной музыке композитора связано прежде всего с его особым жанром – жанром свидетельства очевидца, современника лишь намеками описанных событий. С точки зрения художественного решения сочинение несет в себе изначальное противоречие между архитектонической завершенностью музыкальной структуры и нарочитой, «насильственной» завершенностью текста – ибо «закрыть себя» означает насилие над душой, и потому музыка завершается знаком вопроса, подразумевающим возможность продолжения, возрождения к жизни. По-видимому, отмеченное противоречие является здесь внутренним двигателем происходящего, первопричиной глубины эстетического воздействия кантаты на слушателя.[8]
В то же время, звук «шофара» создает неожиданную, но в то же время совершенно естественную связь между современным израильским и традиционным еврейским миром. И дело не только в воспроизведении тембра древнего еврейского инструмента современным композитором[9] – связь эта пролегает намного глубже и не поддается прямолинейной трактовке. Вспомним, что сама компоновка текста вызывает – непроизвольно – вопросы и сомнения у слушателя: равнозначны ли три «да», завершающие три строки? Есть ли Бог на небесах – или это столь же устаревшее убеждение, как «земля плоская»? Или Бог просто молчит, не вмешиваясь в происходящее? Диалог со Всевышним, который ведут поэт и вслед за ним композитор, полон горечи и сомнения в его милосердии. Религиозное чувство Амихая сродни той «религии протеста», о которой не раз упоминал Башевис Зингер[10] – по мнению Зингера, можно верить в мудрость Всевышнего и отрицать, что Он творит лишь добро, то есть не верить в его милосердие.Однако в «Октябрьском солнце» присутствует, как мне представляется, еще один слой подтекста. Несмотря на всю трагичность нарратива кантаты, именно вопросы и сомнения слушателя – его естественная реакция на парадоксы и противоречия самого сочинения – побуждают к жизни, активизируя чувство и мысль. В еврейской духовной традиции вопросы, сомнения и сама атмосфера раздумья – неотъемлемая часть национального коллективного опыта. Именно коллективная дискуссия, проверка каждого тезиса и каждого принятого в прошлом решения было и остается практикой изучения традиционных еврейских текстов Танаха. Практика эта сложилась в глубокой древности и существует до нынешнего дня в системе еврейского религиозного образования. Амихай, родившийся и выросший в религиозной семье выходцев из Германии, впитал эту атмосферу с раннего детства; один из его поэтических сборников завершается стихотворением «Истинный покой: Вопросы и ответы»:
Люди в слепяще освещенном зале
Говорили о религии
В жизни современного человека
И о месте Бога.
Люди говорили возбужденно
Как в аэропортах.
Я их оставил:
Я открыл железную дверь с надписью
«Критическое положение» и ощутил
Истинный покой: Вопросы и ответы
Копытман – насколько мы можем судить по отбору и музыкальному прочтению текстов в его вокальных сочинениях – склонен в первую очередь ставить вопросы; поиск же ответов он предоставляет слушателю – оставляя вопрос открытым. Но всë же строчка из стихотворения Амихая «За всем этим скрывается большое счастье…», которой Копытман завершает свой «израильский реквием» – кантату Scattered Rhymes – отчасти раскрывает мироощущение композитора. Вполне очевидно, что надежда и сомнение, ирония и горечь – это лишь часть возможных ассоциаций к словам поэта, и ряд этот можно продолжить. Вновь цитируя Амихая, Копытман назвал другое свое сочинение – инструментальную пьесу для камерного оркестра – «За всем этим…». Сделанное им сокращение поэтической строки создает почти неограниченный простор для ассоциаций – остался лишь намек на само наличие подтекста…Думаю, что ценность творчества Копытмана состоит прежде всего в том, что он побуждает нас размышлять. Продолжать попытки угадать то, что в музыке сказано – и искать ответа на вопросы, что лишь поставлены. Композитор словно приоткрыл нам окно в пространство истории и культуры своего народа, в его прошлое и нынешнее – и теперь уже мы, слушатели, решаем, хотим ли мы войти в этот мир и пытаться решать для себя экзистенциальные вопросы о смысле происходящего с нами и/или вокруг нас. Иными словами – хотим ли мы попытаться достичь на этом пути некоего личного инсайта, озарения, которое иногда дается каждому из нас – в меру его духовного опыта.
Приложение
Знаки нотации, использованные в «Октябрьском солнце»
Перевод обозначений в партитуре «Октябрьского солнца»
Секция без точной фиксации временных соотношений ⁄ приблизительная продолжительность такой секции в секундах
Короткая ⁄ долгая длительность
Паузы различной продолжительности
Вибрато (струнные) ⁄ тремоло (ударные)
Глиссандо ⁄ повторение звука
Ускорение ⁄ замедление
Нерегулярное тремоло ⁄ повторение группы звуков
Свободная ротация мотивов внутри секции
Повторение секции в рамке
Свободная продолжительная ротация секций
В секциях без точной фиксации временных соотношений знаки альтерации относятся только к тому звуку, перед которым они стоят.
В «дирижируемых секциях» (обозначенных как 3, 4 и так далее) случайные знаки относятся ко всем нотам внутри такта, как в общепринятой нотации.
Все музыкальные примеры записаны в строе До.
[1] Танах – акроним названий частей Библии: Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания).
[2] Одно из наиболее серьезных исследований этой проблемы - книга Яэль Зерубавель (Yael Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1995).
[3] В Израиле иммиграцию называют либо репатриация (возвращение на родину), либо «алия» («восхождение», на иврите).
[4] На одной из фотовыставок в Иерусалиме я увидела фотографию, запечатлевшую дивной красоты вид с вершины холма; на первом плане, на самом холме – могильный памятник, над которым развевается флаг Израиля. Думаю, что типичное для Израиля смешение восторга перед красотой этой земли и печалью о погибших ради нее трудно выразить более красноречиво.
[5] Позже на стихи Амихая были написаны This is a Gate without a Wall для голоса и камерного ансамбля (1975), Scattered Rhymes для смешанного хора и камерного оркестра (1988), Love Remembered для того же состава (1989).
[6] Здесь композитор включил три строчки из стихотворения Амихая, ничего не меняя в их последовательности.
[7] Разъяснение знаков нотации, использованных композитором, см. в конце статьи.
[8] Идея противоречия разных элементов произведения как первопричины его эстетического воздействия на слушателя была выдвинута выдающимся советским психологом Л.С. Выготским в книге «Психология искусства» (1931 г., опубликована в Москве в 1968 г.)
[9] Не случайно Копытман отказался от использования самого шофара, существующего по сей день: ему важна не этнографическая точность при воспроизведении тембра, а отзвук прошлого, как мы его воспринимаем сегодня.
[10] Исаак Башевис Зингер (1904-1991) – лауреат Нобелевской премии по литературе, писавший преимущественно на языке идиш.